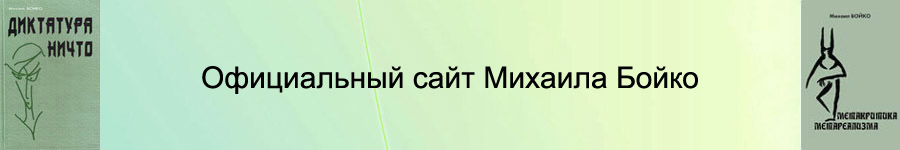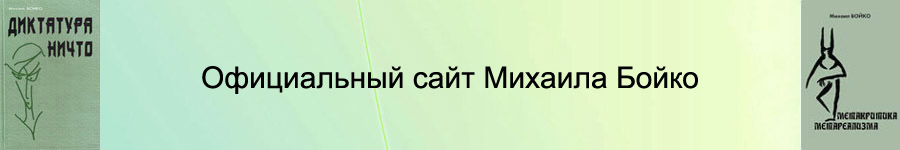Эдуард фон Гартман. Сущность мирового процесса, или Философия Бессознательного/ Пер. с нем. А.А. Козлова. Эдуард фон Гартман. Сущность мирового процесса, или Философия Бессознательного/ Пер. с нем. А.А. Козлова.
Т. I. Бессознательное в явлениях телесной и духовной жизни. Т. II. Метафизика Бессознательного. Изд. 2-е, исп
– М.: КРАСАНД, 2010. – 322 + 440 с.
Эдуард фон Гартман (1842–1896) – в свое время скандально популярный, а сегодня полузабытый и недооцененный немецкий философ. Его можно считать последним из великих полигисторов в античном или средневековом смысле, то есть мыслителей, пытавшихся охватить и переработать в рамках своей системы практически всю совокупность современного им знания. Уже в начале XX века появление таких титанических личностей и монументальных философских систем стало невозможно из-за лавинообразного роста количества информации и калечащей гиперспециализации.
Если обратиться к выдающимся современникам Гартмана с похожим размахом исканий, плодовитостью и способностью к обобщениям, например, Герберту Спенсеру или Вильгельму Вундту, то можно увидеть, что идеи последних оказали гораздо большее влияние на современную науку. Некоторые их открытия настолько растворились в современной философии, психологии, естествознании и трудах последователей, что сегодня воспринимаются как анонимные.
 У идей Гартмана оказалась другая судьба, во многом из-за их чудовищного даже по меркам середины XIX века метафизического размаха, невозможности верификации или фальсификации. После непродолжительного фурора его система была обойдена течением европейской мысли, так что вскоре произведенное возмущение никак не сказывалось (индивидуальное бессознательное психоанализа есть нечто принципиально иное, чем трансцендентальное Бессознательное Гартмана, бесспорно лишь влияние на Карла Густава Юнга). У идей Гартмана оказалась другая судьба, во многом из-за их чудовищного даже по меркам середины XIX века метафизического размаха, невозможности верификации или фальсификации. После непродолжительного фурора его система была обойдена течением европейской мысли, так что вскоре произведенное возмущение никак не сказывалось (индивидуальное бессознательное психоанализа есть нечто принципиально иное, чем трансцендентальное Бессознательное Гартмана, бесспорно лишь влияние на Карла Густава Юнга).
Долгожданное переиздание главного труда Эдуарда фон Гартмана – подарок для всех ценителей философии. Справедливости ради отметим, что слово «исправленное» в выходных данных вводит в заблуждение. Оба тома полностью идентичны первому изданию (М., 1873–1876). Издатели поленились привести дореформенную орфографию к современному стандарту, не стали редактировать текст, исправлять опечатки, писать комментарии, а составили макет из отсканированных изображений.
Конечно, можно сказать, что первое издание книги Гартмана в «почти точном» переводе русского философа Алексея Александровича Козлова (1831–1901) – культурный и исторический памятник, переиздание которого в нетронутом виде само по себе оправданно. Но все же хочется надеяться, что и «Философия Бессознательного», и все другие основные произведения Эдуарда фон Гартмана (а полное собрание сочинений философа насчитывает около 40 томов), когда-нибудь выйдут на русском языке в точном переводе, в современной орфографии, с полагающимся научным аппаратом и комментариями.
В нашем небольшом очерке мы, конечно, не сможем дать общего представления о масштабе и глубине построений Гартмана. Наша цель – заинтересовать читателя этим фееричным мыслителем. А для этого мы обратимся к одному из самых оригинальных метафизических аргументов Гартмана, который при желании можно рассматривать как поразительное откровение, а можно как мысленный эксперимент, хитроумный парадокс или вовсе софизм. Этот аргумент, изложенный в заключительном разделе второго тома «Философии Бессознательного» (гл. XIII. Последние начала), мы будем называть «Пределом Эдуарда фон Гартмана».
Аннигилизм
«Философия Бессознательного» вышла из-под пера 26-летнего философа Эдуарда фон Гартмана, и немалую роль в ее первоначальном успехе сыграли безупречный («шопенгауэровский») стиль, богатый язык, ну и, конечно, оригинальность метода и содержания. Автор претендовал на завершение «классической» линии немецкой философии, а вернее – на синтез двух ее основных ветвей: Кант – Фихте – Шеллинг – (Гегель, Шопенгауэр). Но внимательный читатель обнаружит, что, несмотря на стремление выдержать срединную линию между Гегелем и Шопенгауэром, Гартман сильнее тяготеет к франкфуртскому, чем берлинскому мыслителю, и не только стилистически.
Общую идейную установку Шопенгауэра и Гартмана можно назвать «абсолютным пессимизмом». Однако даже из самых последовательных и радикальных пессимистов совсем немногие развивали идеи космически-универсального самоуничтожения, мирового самоупразднения, онтоцида. Поэтому нам кажется, что Шопенгауэра и Гартмана (а также родственного им немецкого философа Филипа Майнлендера) следует выделить в отдельную группу «аннигилистов».
Что же такое аннигилизм? Мы предлагаем понимать под этим неологизмом учение о предпочтительности небытия мира по сравнению с его бытием, о желательности прекращения «мирового процесса» и конкретных путях приведения мира к состоянию небытия. Возможность целенаправленного упразднения мира была впервые обоснована Шопенгауэром в рамках своей системы. Если, например, Будда говорил только о личном спасении, то новизна учения Шопенгауэра состояла в том, что утверждалась возможность уничтожения (или самоуничтожения) метафизической основы мира – воли (аналога Брахмана), «этого чудовища».
Поскольку метафизической основой мира, согласно Шопенгауэру, является мировая воля (она же воля к жизни), то для упразднения мира достаточно волевого акта мироотрицания (жизнеотрицания). Полное успокоение (резиньяция) воли в одном индивидууме, поскольку воля в своей сущности едина, означало бы умерщвление воли вообще. Один мистический акт абсолютного жизнеотрицания может освободить весь мир от бремени существования. Все произошло бы так, как если бы воля, увидев себя в зеркале сознания одного из своих проявлений, содрогнулась бы от ужаса и, убедившись, что созданный ее мир непоправимо плох, пришла бы к отрицанию самой себя и вечному успокоению в добровольном погружении в ничто.
Подобный ход мысли, очевидно, приводил в тупик. Шопенгауэр восторженно описывал подвиги великих аскетов прошлого, примеру которых призывал подражать, затрудняясь, однако, вразумительно объяснить, почему после стольких героических актов миро- и жизнеотрицания Вселенная все еще существует.
Чтобы преодолеть это затруднение, Шопенгауэр предусмотрел, что задача уничтожения мира может быть достигнута более успешно на пути коллективного усилия. Он считал, что Новый Завет отказа от деторождения должен заменить ветхозаветную заповедь размножения и призывал каждого изо всех сил противостоять «выказываемому гениталиями половому влечению». Вот что ожидает на этом пути истосковавшийся по небытию мир: «Если эта максима (отказ от деторождения) станет всеобщей, то человеческий род прекратится. Вместе с человеком в силу связи, существующей между всеми проявлениями воли, исчезнет и мир животных: так полный свет изгоняет полутени. С совершенным уничтожением познания и остальной мир сам собой превратился бы в ничто, так как без субъекта нет объекта» (А. Шопенгауэр. Мир как воля и представление. Т. I, параграф 68).
Мировой процесс
Гартман значительно усовершенствовал систему Шопенгауэра. Согласно Гартману, метафизической основой мира является Бессознательное с двумя атрибутами (в спинозовском смысле) – волей и представлением, почему он называет ее также «представляющая воля». Счастливый финал мирового процесса такой же, как у Шопенгауэра, – упразднение («искупление») мира.
Исходно воля находилась в состоянии чистой потенции (или небытия), а представление – в состоянии, которое Гартман обозначает по-разному: чистая возможность, сверхсущее, скрытое бытие. Воля абсолютно случайно и бессмысленно захотела хотеть и перешла из потенции в акт. Действительное бытие, обязанное своим существованием безумству воли, отличается характером неразумности и бессмысленности: есть то, чего не должно быть. Гартман соглашался с Шопенгауэром: бытие мира в целом заключает в себе больше страдания, чем удовольствия, и, следовательно, небытие мира предпочтительнее его бытия. Но сознание не может прямо уменьшить и уничтожить волю, оно способно только возбудить противоположно направленную, следовательно, отрицательную волю. Когда мотивированная сознанием противодействующая воля сравняется силою с подлежащею уничтожению мировой волей, они вполне парализуют друг друга и обратятся в нуль, то есть уничтожат друг друга без остатка.
Но как приступить к уничтожению мира практически? Аскетическое отрицание воли, по мнению Гартмана, столь же нелепо и бесцельно или даже нелепее, чем самоубийство, ибо первое медленнее и мучительнее достигает только того же, чего достигает последнее: именно прекращение конкретного явления, не затрагивая его сущности. Таким образом, стремление к индивидуальному отрицанию воли есть заблуждение, но заблуждение только относительно пути, а не относительно цели. Не ведет к желанной цели и всеобщий отказ от деторождения: «Какой прок, например, был бы от того, что человечество вымерло бы вследствие полового воздержания, а несчастный мир продолжал бы свое бытие: в результате оказалось бы, что Бессознательное должно было бы воспользоваться первым случаем создать нового человека или ему подобный тип, и вся история стона и скорбей пошла бы сызнова. <…> Для того, кто крепко стоит на всеединстве Бессознательного, спасение, переход воления в неволение мыслимо только как всеединый акт, не как индивидуальное, но как космически-универсальное отрицание воли, как последнее мгновение, после которого не будет никакого воления, никакой деятельности; и время “перестанет быть”» (II, с. 372–273). Необходима такая координация и быстрота сообщений между обитателями земного шара, чтобы они могли одновременно привести в исполнение свое отрицание воли и перевесить при этом количество положительной воли, проявляющееся в бессознательном мире.
Возможна ли подобная развязка мировой драмы в принципе? Старший шопенгауэрианец (ценимый Гартманом) Юлий Банзен (Bahnsen, 1830–1881) считал, что нет. По его мнению, воля неуспокоима, существование мира – зло бесповоротное и непоправимое: «Мгновение само по себе крошечное – все же сильнее самоотрицания всех времен». Гартман же возражает: «Если бы эта победа была невозможною, если бы этот процесс не был развитием, идущим к мирной цели; если бы он был бесконечен и исчерпывался бы слепой необходимостью и случайностью, не представляя никакой возможности к благополучному завершению, то, конечно, тогда и только тогда мир представлял бы нечто абсолютно безнадежное, он был бы адом без исхода, и тупое самоотвержение было бы единственно возможной философией. Но мы, которые признаем в природе и истории только один величественный и чудесный процесс развития, мы верим в конечную победу все ярче и ярче светящегося разума над неразумием слепого воления, мы верим в конец процесса, несущий нам спасение от муки бытия, конец, для ускорения которого и мы можем привнести свою лепту, если будем руководиться разумом» (II, с. 369–370).
Предельный аргумент
Все это по-своему замечательно, однако встает вопрос, который не тревожил в такой резкой форме Шопенгауэра. Если мир может быть возвращен в исходное состояние, из которого однажды был выведен волей, то где гарантия, что песочные часы бытия не перевернутся еще раз? Воля как потенция, могущая решиться на бытие или нет, абсолютно свободна: ни извне, ни изнутри ее свобода ничем не ограничена. Поэтому потенция воли снова может решиться на хотение, и, следовательно, существует возможность, что мировой процесс будет сколько угодно раз разыгрываться тем же порядком. Казалось бы, никакой уверенности в этом вопросе быть не может…

|
Предел Эдуарда фон Гартмана ласкает взгляд...
На основе рисунка Николая Маркеллова |
И тут начинается самое интересное (II, с. 398–399). Гартман предлагает несложный расчет, позволяющий оценить вероятность того, что воля после нескольких актов хотения и самоотрицания снова решится на хотение. Поскольку воля абсолютно свободна в своем выборе (решиться на хотение или на нехотение), то вероятность каждой из двух возможностей равна 1/2 (как при подбрасывании монеты). Если учесть, что с концом мирового процесса прекращается и время, то дело можно представить себе так: потенция в момент уничтожения последствий своего предыдущего акта снова решается на акт. Так как на вероятность будущего события в данном случае не может оказывать влияния прошедшее, то коэффициент вероятности 1/2 для следующего всплывания хотения из потенции останется тем же самым.
Теперь мы можем оценить априорную вероятность того, что выход хотения (а вместе с ним мирового процесса) из потенции повторится n раз. Очевидно, эта вероятность будет та же, что и вероятность выкинуть монету орлом n раз кряду, то есть равна (1/2)n. При возрастающем n она становится сколь угодно малою, так что вероятность многократного выхода воли из потенции невелика. Следовательно, рано или поздно существование должно будет умиротвориться в священном покое ничто: lim (1/2)n при n, стремящемся к бесконечности, = 0. Собственно, это и есть предел Эдуарда фон Гартмана.
Сумеет ли человечество достойно справиться с уничтожением мироздания? Конечно, с определенностью этого сказать нельзя, и Гартман стоически восклицает: «Будет ли человечество способно к такому подъему сознания, чтобы достигнуть цели, или же возникнет для того другой высший вид на Земле, или же цель будет достигнута при более благоприятных условиях на другом небесном теле, трудно сказать. Как бы то ни было, в известном нам мире мы первенцы духа и должны честно бороться» (II, с. 373).
Опровержения
Можно представить, какую реакцию вызвал предложенный Эдуардом фон Гартманом апокалипсический проект. Фридрих Ницше посвятил Гартману (не столько опровержению, сколько высмеиванию) второе из «Несвоевременных размышлений» – «О пользе и вреде истории для жизни» (1874), в котором осыпал его сомнительными комплиментами как первого «философа-пародиста», в котором «наше время дошло до иронического отношения к самому себе» (аф. 9). В «Человеческом, слишком человеческом» (аф. 357) он вновь предположил, что Гартман всего лишь «пошутил». Неудачно пошутил, конечно, Ницше. Едва ли Гартман, в котором все (и биография, и способ выражения) изобличают благородного и честного мыслителя, был способен на такой мефистофелевский юмор. Евгений Дюринг так вовсе считал, что «проектированный Гартманом конец мира посредством решения, принятого большинством человечества, превосходит все явления обычного мозгового расстройства».
Зато можно сказать, что в русской философии именно система Гартмана пробудила один из самых замечательных умов – Владимира Сергеевича Соловьева, посвятившего опровержению системы Гартмана (в том числе его «предельного» аргумента) свою магистерскую диссертацию «Кризис западной философии (Против позитивистов)» (1874).
Вообще, когда речь заходит о том, как нечто может превратиться в абсолютное ничто и наоборот, все аннигилисты несносно темнят. Соловьев уловил «ахиллесову пяту» аннигилизма, которая в «Философии Бессознательного» тщательно, но безуспешно замаскирована. Согласно Гартману, воля первоначально находилась в состоянии чистой потенции, или чистого небытия, но чистое небытие (даже если постулировать его тождественность с чистым бытием, как делал Гегель) перейти в действительное бытие никак не может. Только понятие небытия переходит в понятие же бытия и обратно, как показано Гегелем, но понятие небытия не есть ничто, а именно понятие. То есть, утверждает Соловьев, положив абсолютным началом чистое небытие, на этом начале и следовало бы остановиться. Гартман совершает логическую ошибку: «мыслит волю и представление существующими в состоянии потенции прежде их действительного бытия, он мыслит чистую потенцию, существующую саму по себе, отдельно от актуальности, то есть он гипостазирует отвлеченное понятие потенции, несмотря на совершенно относительный характер этого понятия» (Владимир Соловьев. Спор о справедливости. М., 1999. С. 391).
Можно смело предположить, что Соловьев унаследовал масштабность мышления, метафизический размах собственного проекта именно у Гартмана. Благодарность русского философа проявилась также в том, что он подчеркивал положительное значение системы Гартмана не только для собственного идейного становления, но и для европейской мысли в целом.
В заключение нам хотелось бы предоставить слово самому Владимиру Соловьеву. Извиняемся за объемность цитат, но они красноречивее любого пересказа. «Истинность гартмановской практической философии заключается, во-первых, в признании того, что высшее благо, последняя цель жизни не содержится в предметах данной действительности, в мире конечной реальности, а, напротив, достигается только через уничтожение этого мира, и, во-вторых, в признании, что эта последняя цель достижима не для отдельного лица в его отдельности, а только для всего мира существ, так что это достижение необходимо обусловлено ходом всеобщего мирового развития» (Ibid, с. 431).
«С другой стороны, ясно, что когда Гартман, показавши вполне основательно отрицательный характер мирового процесса и его последнего результата, или цели, утверждает, что в этом последнем результате снимается не только наличная действительность конечного реального мира в его исключительном самоутверждении (как это несомненно истинно), но что это есть совершенное уничтожение, переход в чистое небытие, ясно, что такое утверждение не только нелепо само по себе (как было нами прежде показано), но и прямо противоречит основному метафизическому принципу самого Гартмана. В самом деле, конец мирового процесса, во-первых, не может быть безусловным уничтожением всего сущего потому, что ведь абсолютный, всеединый дух, совершенно не подлежащий времени (как это признает и Гартман), не может сам по себе определяться временным мировым процессом, следовательно, он остается в своем абсолютном бытии неизменно как до мирового процесса, так и во время его и после него, следовательно, процесс этот и его конечный результат имеет значение только для феноменологического бытия, для мира реальных явлений. Но, во-вторых, и для этого мира конец процесса не есть уничтожение в безусловном смысле» (Ibid, с. 431–432).
«Последняя цель и высшее благо достигаются только совокупностью существ посредством необходимого и абсолютно целесообразного хода мирового развития, конец которого есть уничтожение исключительного самоутверждения частных существ в их вещественной розни и восстановление их как царства духов, объемлемых всеобщностью духа абсолютного» (Ibid, с. 433).
http://exlibris.ng.ru/2010-11-11/6_philosophy.html |