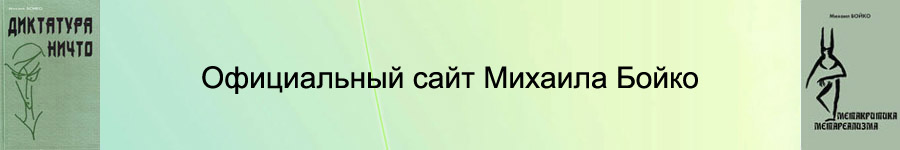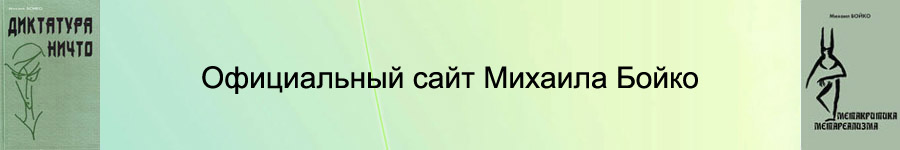|
Владимир Забалуев, Михаил Бойко, Андрей Иванов, 20.11.2005
Фотограф неизвестен
|
Ведущие эфира: Андрей Иванов и Михаил Бойко
Гость студии: Владимир Забалуев. Родился в 1961 году в Костроме. Окончил историко-педагогический факультет Костромского педагогического института имени Некрасова. Преподавал в Емсненской средней школе Нерехтского района Костромской области. Учился в аспирантуре при Институте всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук. Работал в журнале «Новая и новейшая история». Живет в Москве. Наиболее известные пьесы написал в соавторстве с Алексеем Зензиновым: «Время Я», «Русь немецкая», «Изнанка» и другие. Совместная пьеса в жанре вербатим «Красавицы», которая заняла первое место в номинации «Мультимедийная пьеса на конкурсе «Новый стиль» в Новосибирске в 2004 году и была поставлена в «Театре.doc» в 2005 году.
Андрей Иванов: Сегодняшняя наша передача посвящена драматургии. Написание пьес, конечно, отличается от написания романов, потому что пьеса всегда предполагает театр и, прежде всего, не читателей, а зрителей. Соответственно, появление нового стиля в драматургии влечет за собой изменение в методах постановки спектакля. Об одном из таких новых стилей современной драматургии мы поговорим сегодня.
Михаил Бойко: В последнее время все чаще звучит слово «вербатим». Для многих оно ассоциируется с фирмой, производящей дискеты и лазерные диски, но в последнее время оно все чаще применяется к специфическому драматургическому жанру. Вкратце суть этого жанра заключается в том, что набирается сырой материал, чаще всего это магнитофонные записи, но в качестве источника сырого материала могут служить и интернет-чаты, разнообразные форумы. Дальше этот материал обрабатывается в соответствии с концепцией автора, и итоге получается литературное произведение – своего рода новое рождение документального жанра. В последнее время вербатим развивается столь динамично, что прежде незнакомое слово все чаще встречается на страницах литературных изданий, газет, театральных сборников. Активным пропагандистом нового направления является писатель-драматург Владимир Забалуев.
Мы спросим нашего гостя об истоках этого специфического жанра. Насколько мне известно, они не ординарны, и хотя сам жанр пришел в Россию с Запада, он имеет российские корни.
Владимир Забалуев: Для России вообще присуще получать с Запада ее собственные изобретения и заново их открывать. Причем часто возникает такой эффект: то, что на Западе является какой-то частной техникой, у нас приобретает характер идеологии. Нечто подобное произошло с вербатимом. Примерно в 2001–2002 годах, между фестивалями «Новая драма», «Любимовка» и лондонским театром Royal Court, который является главным миссионером новой современной драматургии в мире, наладились контакты, и представители лондонского театра Royal Court вели в Москве семинар по различным способам работы, по новой технике драматургии для российских драматургов. Среди форм, которые они презентовали, была и такая форма, как вербатим. Эта техника предполагает работу с магнитофонными записями. Записывается разговор или интервью с представителями какой-то одной определенной социальной группы. Это могут быть бомжи, мигранты, работники скандал-шоу на телевидении и т. д. Запись расшифровывается, и на основе этого текста делается пьеса. Причем произошла интересная вещь: в России этот жанр, который, как я уже сказал, в Британии является достаточно частным, приобрел характер бума. Был создан Театр современной документальной пьесы («Театр.doc»), и в нем начали ставиться спектакли, созданные по новой технике. При этом сразу обнаружилась существенная разница с англичанами и со старой документальной пьесой. В чем эта разница?
Если мы вспомним образцы документальных пьес эпохи позднего застоя, подобных пьесам о Ленине и о других большевиках, автором которых был Михаил Шатров, то увидим, что там изначально существовала идеологическая установка, существовал проект пьесы, а документальный материал подбирался для его иллюстрации. Скажем, под тезис «Ленин – гуманист, человечный человек» подбирался материал из полного собрания сочинений Ленина, какие-то другие документальные вещи из архивов и составлялась пьеса.
Сегодня возобладал другой подход: начинается работа над каким-либо социальным срезом, например, люди выезжают во Владимирскую колонию, где содержат женщин-убийц, берут у них интервью, а затем уже после обработки этого материала появляются герои, персонажи, коллизии, конфликтные ситуации и прочие вещи, необходимые в драматургии. При этом уже непосредственно из этой реальности, которую на ощупь, эмпирически, постигают драматурги в процессе работы, рождается произведение, весь последующий инструментарий, его идеологическая и прочая часть.
Когда начался бум вербатима в России, то сами англичане несколько испугались. Я помню, как руководитель театра Royal Court говорил, что в самой Великобритании техника вербатим занимает не более пяти процентов от всех новых текстов, которые поступают в театр Royal Court, а туда поступает огромное количество текстов, и она не является ни в коем случае господствующей. Более того, знакомство с образцами западноевропейского вербатима оставляет впечатление, что там по-прежнему господствует старый документальный принцип, то есть в основном преобладают политические или социальные вербатимы, существует установка, и под эту установку подбирается материал. То есть там техника остается еще старая.
Британцы же говорили и о том, что к ним метод вербатим пришел из Америки, а в Америку он пришел через Михаила Чехова и через других наших эмигрантов. В начале 1920-х годов документальный театр в России действительно переживал бум. Это был старый документальный театр, где идеологическая установка была довлеющей, а материал играл вспомогательную роль, но, тем не менее, он там был, были такие славные страницы. Таким образом, спустя 80 лет к нам вернулось слегка видоизмененное наше собственное изобретение.
А.И.: Сейчас вербатим составляет немалую часть от новых текстов. На кого эти тексты ориентированы – на интеллигенцию, или на общую массу? Я задаю этот вопрос, потому вербатим получает большую популярность и тому может быть две причины: либо люди видят там себя (и здесь уже не важно, о ком мы ведем речь, о бомжах, о женщинах из колонии, об иностранных мигрантах, потому что в нашей стране, как сказал один современный поэт, перед рюмкой все равны, и уборщица и генерал), либо интеллигенция, стоящая на перепутье, пытается что-то узнать о народе, который от нее далек, жизнь которого эту интеллигенцию абсолютно не затрагивает.
В.З.: Я думаю, что второй вариант, народнический, все-таки менее отвечает текущим процессам. На самом деле, старая культура – и драматургия, и вся культура в целом – зашла, как мне кажется, в глубокий цивилизационный тупик и уже не способна отражать реальность. Старые способы отражения реальности, старые приемы, старые законы искусства сейчас не действуют, они не помогают, а наоборот, мешают отражать реальность, поэтому метод создания пьес путем непосредственного, естественнонаучного в каком-то смысле изучения реальности является попыткой вырваться из этого тупика. Сегодня вербатим расширяет сферу своего влияния, но пока он интересен достаточно узкому кругу.
Есть вербатимные спектакли в городах и помимо Москвы. Недавно приезжали из города Глазово, привозили спектакль из Самарской области, вербатим существует в уральских, сибирских городах, в Тольятти. В Москве он идет в основном в «Театре.doc». Его посетителями являются студенты театральных вузов, представители театральной общественности, культурные деятели, в том числе VIP. Это своеобразный театр для людей, занимающихся культурой, то есть это способ расширения их сознания.
Но помимо этого растет аудитория людей, которые приходят туда случайно, или которые приходят для того, чтобы увидеть себя. Скажем, с гигантским аншлагом прошла премьера спектакля «Манагеры» – про современных менеджеров среднего звена. И там был совершенно дикий аншлаг, не попало огромное количество желающих, возникали скандалы. И люди прямо говорят, что они готовы приходить, чтобы увидеть себя, потому что они не видят себя ни в телевидении, ни в книгах, нигде, и чтобы почувствовать, что они реально существуют, а не являются какой-то мнимой величиной, им необходимо это искусство. То есть оно уже начинает находить аудиторию и по месту своей прописки, ту аудиторию, которую оно отражает. И процесс этот расширяется. Я думаю, он лежит в рамках растущей популярности non-fiction, который сейчас отмечен в литературе и в культуре вообще. В искусстве есть тенденция отказа от методов конструирования реальности заранее заданной. Сейчас все более актуальным становится изображение этой реальности путем ее непосредственного отражения.
А.И.: Если мы говорим о выходе из тупика, то есть предполагается тупик сегодняшнего безвременья, подлого времени, когда непонятно, с кем быть, за кого, за что выступать, а вербатим только отражает реальность, то получается, что люди и живут в этой тусклой реальности, и смотрят на нее же на спектакле, упиваются ею, или видят, что реальность еще намного хуже, чем тот мир, в котором живут они, кто ходят на спектакли. Но где выход-то из тупика?
В.З.: Проблема в том, что люди не знают, в какой реальности они вообще живут, поэтому и получается, что они не знают, с кем быть, куда идти и что делать, потому что нет никаких вех. Есть постмодернистское наследство, где все выровнено, рядоположено. Я представляю себе длинное кладбище, в котором лежат культурные смыслы. И точно также описания реальностей не существует, а существуют их симулякры, которые нам дает телевидение, в первую очередь сериалы и так далее. Они работают с уже готовыми штампами, и эти штампы очень грубо накладываются на реальность, иногда они отражают подсознательное желание каких-то простейших форм, типа черного романса. Но описания реальности, которое позволяло бы ориентироваться и идти в будущее, нет.
Вот популярная фраза из Фассбиндера: «Если ты не можешь изменить реальность, то, по крайней мере, опиши ее». Я думаю, что часть авторов руководствуется ею. Я вообще предпочитаю несколько видоизмененную формулу: «Если ты не можешь изменить эту реальность, создай новую». Но это, я думаю, следующий этап. Для того, чтобы идти в будущее, надо описать современность. Люди не видят этой современности. Они постоянно в ней живут, но они не находят постепенного адекватного отражения, и вот этот дефицит сейчас все более активно заполняется, в том числе и с помощью вербатима.
М.Б.: Мне хотелось бы еще немного поговорить о вербатиме в более широкой перспективе. Дело в том, что уже прозвучало слово non-fiction, и действительно, движение в этом направлении сейчас становится доминирующим. Само слово не очень удачно, означает просто «не фантастика», но как таковое оно отражает охватившее общество безраздельное стремление к новой объективности, к новой документальности, к восприятию жизни в ее действительно существующих формах. После десятилетия господства постмодернизма, когда нас кормили виртуальными сказками, отвлекали тем или иным образом от социальной действительности, сейчас этот поворот охватывает многие искусства, не только драматургию, не только литературу даже, но и кинематограф. Не могли бы вы рассказать о вербатиме как общекультурном явлении, как новой протоплазме, в которой рождается искусство завтрашнего дня?
В.З. Да, вербатим, начавшись когда-то в подвале «Театра.doc», сейчас распространяется уже и на другие сферы искусства. В частности, от «Театра.doc» отпочковалось новое культурное явление – «Кинотеатр.doc». Это постоянно действующий фестиваль, на котором демонстрируются фильмы альтернативного кинематографа, не представленные, как правило, в широком прокате, которые иногда только начинают пробиваться как фильмы-быль. Там опять-таки очень силен метод документалистики. Там присутствует старая документалистика, в том виде, как она существовала у нас в советское время, как она существовала в мировом кинематографе. И там существует документалистика нового типа, такая, как в фильме «Трансформатор». Он целиком снят по законам вербатима.
Это вещь совершенно абсурдистская, и абсолютно документальная, но она обретает характер притчи в силу глубокого обобщения всего нынешнего состояния общества. Два мужика уронили трансформатор по дороге в Петербург и сидят сторожат его. Пока они там сидели, у них украли машину, они сами спились, остались без денег, а когда приехала спасательная служба, выяснилось, что проще сделать новый трансформатор, чем этот старый поднимать и перевозить, и в итоге возникает ощущение тотальной бессмысленности. Вот наглядный пример жанра, который сейчас утверждается. Фильм, впервые показанный на одном из фестивалей «Театра.doc», обошел уже многие фестивали.
В музыкальной сфере другое направление. Сейчас самым, наверное, известным автором саунд-треков к самым известным спектаклям саунд-драмы в Москве является группа «Пан-Квартет» во главе с Владимиром Панковым. У них очень существенная составляющая их музыкального оформления – это городские шумы, это индустриальные шумы, это шумы в виде той попсы, которую нам крутят по радио и по Муз-ТВ, по MTV и т.д. Они вряд ли считают, что это вербатим, но в каком-то смысле это вербатим.
И в литературу приходит уже непосредственно вербатим, а не просто non-fiction . В журнале «Октябрь» не так давно были опубликованы фрагменты из литературной версии нашей пьесы «Красавицы» с нашим предисловием. Журнал провел презентацию темы вербатима. Ведь на самом деле есть ощущение, что вербатим дает подсказки для литературы, которая сейчас находится в таком же тупике. Допустим, я открываю Мураками и прочие вещи, и вижу, что это уже пройдено тысячекратно, это даже не отражение, а отражение отражения. Я вижу, как меня разводят, выжимают определенные эмоции, и я тут же закрываю книгу.
О поэзии. У нас хорошие поэты, но поэзии, как направления, которое ведет в будущее, на мой взгляд, нет. Мне кажется, что настоящее искусство не описывает реальность, по большому счету, а ее создает. Романтики во многом создали тип человека и ту политическую и культурную реальность, которая существовала в первой половине XIX века. Реалисты создали вторую половину XIX века. Символисты нам подготовили эпоху катастроф и т.д. Но та литература, которую мы имеем сейчас, ничего не создает, и мне кажется, что вербатим – это та лаборатория, из которой могут родиться, рождаются новые ритмы, новые формы, новые способы взаимодействия текста и реальности.
А.И.: Вы, как автор, работающий в стиле вербатим, чувствуете, что творить в этом стиле намного сложнее, чем в классическом? Когда снимают фильм с промышленными шумами, с долгими монологами, где люди сидят, обсуждают или как грузят какие-нибудь обгоревшие двигатели ракетные, чтобы показать какой это ущерб приносит экологии, такие фильмы хорошо смотреть специализированно, как спектакли в специальных клубах, попивая какой-нибудь очень хитрый чай, привезенный из Китая или из Мексики. Но когда такой фильм смотришь по телевизору часов в восемь вечера, возникает ощущение какого-то нескончаемого занудства. Каким же мастерством должен обладать автор, чтобы это было не занудством, а чтобы все было динамично! Или динамичность не предполагается в этом стиле?
В.З.: Если вы придете на спектакль в «Театр.doc», то я не думаю, что там у вас возникнет ощущение занудства. Там могут возникнуть другие проблемы, поскольку там идет адекватное отражение реальности, и не все переносят, особенно с первого раза, изображение жестких реальных ситуаций, но, как правило, это быстро проходит. Скучно там не будет, за исключением каких-то отдельных спектаклей, может быть оттого, что там собрались очень талантливые люди.
Работать над такими текстами и над такими спектаклями сложнее, потому что вообще создавать новое сложнее, чем использовать готовые стереотипы. Одновременно у нас существует и такая аудитория, для которой в массовом порядке пишутся тексты по уже отработанной технологии. Эта аудитория такие тексты, полные повторения пройденного, воспринимает с благодарностью, поскольку ей нужно чтиво. Но для человека, который ищет что-то новое, в произведениях в стиле вербатим как раз открывается другая динамика, открывается другой способ изображения конфликта, другие типы взаимодействия, и это открытия дают такие ощущения, которые старый театр и старая драма не могут дать.
Например, в спектакле «Манагер» нет сюжета в классическом понимании, там какая-то достаточно сложная композиция, которая ближе, наверное, к музыкальному построению, там есть темы, которые развиваются. Там рождается новая эстетика. Это как раз тот случай, когда появившееся слово создает новую реальность, и от того, какое слово выбрано, в очень существенной мере зависит дальнейшее развитие реальности.
М.Б.: Тоже не соглашусь с тем, что вербатим-спектакли скучны. Был на нескольких таких спектаклях, которые идут в обыкновенном помещении, где помещается два-три ряда зрителей, где существует непосредственный визуальный контакт – зрачки в зрачки – с актером, где актер может подойти, задать вопрос впрямую, ударить ногой по башмаку, нависнуть над зрителем, и это рождает совершенно особое восприятие театрального действия. Мне хотелось бы остановиться на вопросе о новой коммуникативности, связанной именно с новой драмой, с документальным театром.
В.З.: И новая драма, и вербатим как один из ее методов, дают как раз новые способы коммуникации. Реально мир находится сейчас во всеобщем кризисе самоидентификации, причем на уровне цивилизаций, наций, социальных групп, личностей, пола, возрастных ролей, мужчина-женщина, старший-младший и все прочее. То есть идет размывание идентификации вообще, как таковой, идет утрата коммуникации, потому что старая коммуникация была рассчитана на иерархию, на какие-то утвержденные смыслы, и она сейчас не работает. В новых условиях фактически старый театр, старая литература не предлагают этой коммуникации, там нет взаимодействия человека с человеком, который сидит, допустим, рядом с тобой в зале. Там есть взаимодействие с какими-то прошлыми смыслами, с ушедшими людьми, с прошедшими эпохами. А новая драма эту возможность дает, и в каком-то смысле она сейчас является единственным театром.
Вообще театр в виде новой драмы и в частности вербатима является единственным конкурентом от литературы, можно сказать, для визуальных искусств. Потому что конкуренцию кинематографу, мультимедиа, попсе нашей музыкальной и прочим, старая литература, старый театр, старое искусство составить не могут, а новая драма может. В новой драме даже на уровне читок, показов, которые проводятся и на семинарах и сами по себе, идет взаимодействие между драматургом, актерами и зрителями – это живое общение. Это не 2001-ая интерпретация «Чайки» в российских условиях. Текст новый, которого никто не знает, и актеры наполовину импровизируют, не зная, что у них получится. Там зрители, которые тоже не знают о том, что произойдет, и автор, который не знает, что сделают с его текстом. Вот он дал послание, а в каком виде оно дойдет? Там рождается живая коммуникация, близкая к реальной жизни, когда люди начинают понимать друг друга и вырабатывать какой-то новый язык, который, может быть, потребуется для общества несколько позже, когда сойдет пена текущей реальности.
А.И.: Как вы относитесь к тому мнению, что именно классическое искусство способствует сохранению традиций в нынешних условиях, когда формируют реальность, показывая негативные ее стороны в сериалах про плохих бандитов, про добрых участковых, про олигархов и пр.? Ведь сохранение традиций означает и сохранение вообще народа как народа, не дает ему превратиться просто в население, в электорат, в биомассу.
В.З.: Думаю, что сейчас народ испытывает кризис идентификации. Считаю, что советский народ в том виде, как его трактовали, недееспособен, и российский народ в том виде, как он существовал до 1917 года, недееспособен. По большому счету, не только завершены проекты «Великая русская литература» и «Великое русское искусство», но и проект «Великая русская нация» в целом завершен. Сегодня идут процессы, которые касаются не только нас, а всей северной цивилизации. Мы увидели их на примере недавних событий во Франции. Нам нужен проект на опережение, проект на формирование какой-то новой общности. Это произошло когда-то с великой русской нацией, которая образовалась из древнерусской народности путем смешения с финно-уграми, с тюркскими группами, и в результате появилась новая общность, которая сумела сохранить преемственность прежних культур – мерянской, татарской, поволжской, ордынской – и которая в себе это объединила.
Такой проект нужен, чтобы это не произошло катастрофически, когда нас просто вытеснят, появится что-то совершенно чужеродное, а от нас и останутся только обломки, которые потом люди будут выкапывать из культурного слоя. Нужны сознательные активные действия для формирования новой общности, в том числе общности на смешанных этнических признаках, потому что процесс депопуляции никакими известными нам способами остановить нельзя. История не дает нам таких примеров. Поэтому, мне кажется, сейчас должно идти формирование какой-то новой наднации из существующих элементов. Если мы хотим передать в максимально сохранившемся виде свою культуру, если мы хотим передать то, что наработано, то мы должны дать проект на опережение. Его пока нет.
М.Б.: Я замечу, что в драматургии так же, как и в других видах искусства, должно существовать, конечно, направление, сохраняющее классическую традицию, которое развивает ее до все большего совершенства и изощренности. Но так же должны существовать экспериментальные направления, в которых собственно и зарождается новое. Это как раз обеспечивает адаптацию искусства к современной реальности, что позволяет ему остаться вечно актуальным явлением в нашей жизни. Но хотелось бы остановиться на более конкретном вопросе.
Владимир, вы известны как соавтор, пожалуй, одной из самых интересных вербатим-пьес в российском документальном театре – «Красавицы», которая победила на конкурсе «Новый стиль-2004» в номинации «Лучшая мультимедийная пьеса». Что это за спектакль, что в нем такого интересного и почему его считают революцией внутри революционного жанра вербатим?
В.З.: Что мы хотели получить, когда ставили этот спектакль? Дело в том, что вокруг жанра вербатим к тому моменту, когда мы взялись за пьесу, существовал определенный ореол. В силу того, что не хватало традиционных терминов для описания явления, его приписали к социальному театру, решили, что это театр, отражающий жизнь маргинальных групп – бомжей, проституток, наркоманов и пр. На наш взгляд это было ошибкой, потому что это не народнический театр, который вызывает сочувствие к этим группам и как бы кается от лица обеспеченной части общества за то, что оно живет хорошо, а они живут плохо. Нет, тут совершенно другая установка, тут вопрос интереса. Просто эти группы помогают нам понять лучше самих себя, потому что, допустим, среди женщин-убийц, изображенных в спектакле, бушуют страсти и совершаются преступления, которые свидетельствуют о гораздо большей пассионарности, чем у нас, нормальных жителей.
А.И.: И совести.
В.З.: И совести, потому что у них существуют свои понятия. Это не нравственные заповеди в традиционном смысле, но у них существуют какие-то нормы, которыми они руководствуются и которые они не преступают. В то время как наша элита перешла все нормы, и сейчас вообще не существует какой-то нормативной нравственной базы для нас. То же касается и других групп. Выясняется, что у них есть свой смысл и способ существования, то есть те вещи, которые отсутствует у нас, то есть у тех, кто себя причисляет к интеллектуальной и прочей элите нашей страны.
Вот для того, чтобы снять вот этот налет социальности и не повторяться по сравнению с тем, что было сделано, мы решили взять группу совершенно нормальных людей, которые не являются маргиналами в традиционном понимании – мы взяли для этого красавиц. Эта группа по своему достаточно экстремальна, потому что в силу своего отличия от других подвергается повышенному вниманию окружающей среды. Мы опросили восемнадцать красавиц Москвы и Петербурга. Поскольку понятие «красавица» субъективно, мы руководствовались следующими соображениями: чтобы окружающие считали их красавицами, чтобы они сами себя считали красавицами или воспринимали себя как красавиц, чтобы они не зарабатывали красотой на жизнь, поскольку это искажает частный характер этого явления, и последнее, чтобы они, по возможности, не были нашими знакомыми. Из этих интервью был смонтирован спектакль, а затем у нас уже появилась литературная версия.
Отрывок из спектакля:
– Когда вы впервые почувствовали, что вы красивы, или вам кто-то сказал, что вы красивы?
– Я, например, совсем недавно вспомнила, что, оказывается, я была самая красивая девочка в классе, хи-хи, и думаю: «Ого!». А мне как бы, ну как-то совершенно там… всегда, ну, нравственное положение там вещей… там больше, ну, поступок, да, вот… И тогда оказалось, что вот! Опять мне, опять мне все стали говорить (людской гомон на сцене). А мне хотелось стать каким-то там, ну, героем как бы, мальчиком, что ли стать. Я совершенно вот этого даже не понимала, насколько я там это… ну, хороша или не хороша. Я не боролась за первенство. Мне казалось, что у нас есть другая самая красивая девочка. Вот.
А.И.: «Красавицы» – это произведение, которое показывает, что вербатим именно русский стиль, с культурой возможности покаяния?
В.З.: Я бы, наверное, так не сказал. Я бы сказал, что речь идет о поиске новой эстетики, потому что, когда мы смотрели предыдущий спектакль, нам показалось, что в вербатиме есть момент: форма в нем важнее содержания. То есть на самом деле смыслы, которые содержатся в вербатиме, в большей степени содержатся не во внешнем событии, не в сюжете, который излагается, а в способе построения речи, в оговорках, паузах, запинках и прочих вещах, которые мы не фиксируем, которые литературная речь отвергает и подвергает унификации. И по ряду каких-то читок и показов мы вдруг поняли, что открыт очень существенный, может быть, важнейший смысл этого искусства: идет рождение нового языка. Язык, которым мы пользуемся, абсолютно не соответствует реальности, он ее не описывает, и вербатим явился одним из способов извлечь этот язык, вывести его на сцену, а уже в литературной форме – в литературу. Таким образом, мы пытаемся открыть какие-то новые возможности. Мы говорим и думаем совершенно иначе, чем это описывается у нас в литературе или чем это у нас традиционно излагается, поэтому в пьесе в каком-то смысле нет прямого сюжета.
А.И.: А нет ли искушения, что молодые литераторы, которые захотят прославиться, начнут писать в этом популярном новом стиле, и получится, что человеческие переживания, человеческие монологи, отражающие реальность, будут использованы только для того, чтобы выработать какую-то новую эстетику, или даже просто провозгласить себя? Не будут ли все произведения ориентированы исключительно на коммерческий успех со всеми вытекающими отсюда последствиями? И еще такое уточнение: если вербатим отражает реальность, показывает ее такой, какая она есть, то должен ли автор туда все-таки вкладывать какие-то свои нотки, положительные или отрицательные? Если показывать, например, негативную реальность такой, какая она есть, то не сформирует ли она новую реальность, новую идеологию? Как вы сказали, что из реальности получается идеология, а не наоборот. Не будет ли это полностью негативная идеология, которая сформирует мнение, что этот негатив и есть вполне нормальный образ жизни?
В.З.: Что касается негатива, то в самых черных наших спектаклях гораздо больше позитива, чем, предположим, во мхатовской «Синей птице» или в «Вишневом саде». Наши пьесы дают смысл существованию. Работа над вербатимом сложна, потому что из огромного количества текстов нужно оставить от десяти до сорока страниц. Отсев колоссальный. Чтобы получился спектакль, необходимо это пропустить через себя. Ни в одном современном театре вы не получите такого открытого переживания, такого попадания в эмоцию, как в вербатиме. Что касается эстетики, то в каком смысле я сказал «выработка эстетики»? Мне кажется сейчас вообще все традиционные идеологические институты (политика, нравственность и прочие) не действуют, и их нужно обрабатывать заново, с нуля, и этот способ здесь подходит.
Вербатим – это не новая драма, это такая синкретическая форма для развития культуры вообще, потому что нужно определиться, что такое плохое-хорошее, доброе-злое. Вот, собственно, категории, с которых начинается отстраивание всего остального. То есть нужно эти позиции развести, а они у нас сейчас не разведены, у нас все перемешано. После постмодернизма, после всех вещей политической глобализации и прочего у нас смешано все это в кучу. Кроме того, у нас нет вообще противоположностей, нет полюсов, а раз нет полюсов, то нет и электричества, нет движения, нет развития. Вот это разведение полюсов сейчас и происходит на уровне первых опытов «здесь плюс там минус», на уровне простейших микроскопических судеб, которые даются в пьесе. И уже из этого можно отстраивать дальнейшее – эстетику, политику, социологию и все прочие вещи.
 |
Забалуев и Бойко обсуждают пьесу «Смог», 20.11.2005
Фото Андрея Иванова
|
М.Б.: Я замечу, что вербатим-спектакли по силе своего эмоционального воздействия далеко оставляют позади традиционные постановки. Я смотрел спектакль «Сентябрь.doc», посвященный трагедии в Беслане. Представим маленький зал, четыре стула, две женщины, двоих мужчин. Минимализм, никаких декораций, никакого фона, и мы видим, как герои поочередно разыгрывают то чеченскую сторону, то русское восприятие этих событий, то осетинское, и настолько погружаемся в атмосферу переживаний этих героев, что меняем на протяжении спектакля свою точку зрения последовательно несколько раз. Герои постоянно перевоплощаются, и в итоге эмоциональный накал этого представления настолько велик, что после спектакля хочется уйти, сесть где-то в одиночестве, чтобы переосмыслить всю эту информацию. Такое эмоциональное воздействие, эмоциональный опыт театр и должен давать. Может быть, это получилось в силу актуальности материала, что не позволяет говорить о «новой драме» как явлении чисто эстетическом. Это явление этического характера, и любой человек, который посмотрел эту драму, конечно, будет по-другому расценивать все события и их подачу в средствах массовой информации.
Но я хотел бы еще остановиться на другом вашем произведении – пьесе «Смог». Я прочел ее в одном современном сборнике и поразился, насколько она актуальна. Написана она, как ни странно, белым стихом. Почему вы выбрали такую форму изложения? Потом выяснилось, что пьеса написана почти пять лет назад, а читается так, как будто она написана буквально вчера. Расскажите подробнее о происхождении этой пьесы.
В.З.: Что касается верлибра, то одна из проблем русской поэзии и русской литературы в том, что она не совершила вот этого прорыва верлибра, что мы до сих пор в силлабическом стихосложении, которое было задано нам еще со времен Тредиаковского. Мы из него не вышли. То, что Запад давно прошел, для нас это пока не произошло, и в каком-то смысле это пробел нашей литературы. На наш взгляд, именно форма вербатима позволяет уйти от жестко заданных ритмов, которые уже превращаются в пустую оболочку, и вынуждают в каждом конкретном случае находить, грубо говоря, соответствующую длину строки, которая отвечала бы каждому повороту реальности. У нас была пьеса «Русь немецкая», в значительной степени написанная. Когда мы начали расшифровывать записи разговоров с красавицами, мы обнаружили, что большинство девушек на самом деле, если считать паузы разбивкой строки, говорят верлибрами, причем совершенно отчетливыми. Это не просто записано в такой форме «текст – проза», а это именно поэзия, что мы и постарались отразить в литературной версии.
А что касается «Смога», то там тоже сразу дело пошло на верлибр, потому что сама по себе эта ситуация библейская, когда американский астронавт и советский космонавт летают на МКС и в итоге их беседы, которую они ведут в каком-то полуфантастическом будущем, идет разговор об акции «Зеленый мир», потом они кладут коврики, из боковых отсеков выходят шестеро жен, и начинается глобальная мусульманская молитва и т.д. Сейчас вообще через новую драму идет воскрешение такой дискредитированной категории как пафос, и пафос вновь обретает право на существование. После того как он был дискредитирован в советское время и уничтожен постмодернизмом, он сейчас заново обретает права и становится более точным, чем любые изощренные способы иронии и прочие приемы, которыми пользовалась литература до этого.
Пьеса «Смог» возникла после пожаров под Москвой, когда все было в дыму, как в молочном тумане, а девушки, которые мне встречались, прикрывали носы мокрыми платочками, при этом курили и вдыхали и дым сигарет и этот смог. Это наложилось на общее восприятие картины мира, которая тогда нам казалась уже явственной, но о ней не было принято говорить: пассионарность мусульманства, неспособность Запада ему противостоять с точки зрения всех основных категорий – этической, эстетической, утраты энергетики, депопуляции и т.д. Вот и родилась такая пьеса, в которой эта идея нашла отражение.
При этом, обратите внимание, там сохраняются и США, и Советский Союз, то есть, по сути дела, хоть мир и изменился, стал мусульманским, но он остался прежним. На самом деле катастрофы привносят меньшие изменения, чем это ощущается при непосредственном взаимодействии с ними, и когда проходит первый, кризисный, может быть, кровавый период, то дальше начинается уже какое-то повторение общих процессов. Вот тогда эта вещь и возникла. Мы ее предполагали ставить в одном очень уважаемом до сих пор театре, но, к сожалению, там нам сказали, что это мракобесие никогда не будет идти на их сцене. Она долгое время лежала под спудом, и была опубликована только в сборнике политической пьесы.
М.Б.: И, в заключение, такой общий вопрос: верите ли вы, что Россия справится со всеми сложностями, которые сейчас ей предстоят, и выйдет из них обновленной, еще более мощной, еще более справедливой и благополучной державой?
В.З.: Мне кажется, что наша недавняя вовлеченность в западные либерально-рыночные процессы, наш низкий уровень жизни, наш идеализм в сочетании с безудержным цинизмом, который сейчас существует, – все это не только наш минус, но и в каком-то смысле наш ресурс, потому что в нас сохраняется способность к резким движениям, к преобразованиям, способность выдвигать какие-то проекты, болезненные для осуществления. Эту способность Запад в значительной степени утратил. И если этот ресурс будет задействован, если мы сумеем сыграть на опережение и родить какой-то новый геополитический проект, в котором найдем себе место, то у нас больше шансов справиться со всеми сложностями, чем, по крайней мере, у Западной Европы.
А.И.: Сегодня мы говорили о вербатиме – новом литературном направлении, которое строится на непосредственном отражении реальности, а уж из него должно родиться какое-то новое мировоззрение.
Всего доброго. До свидания.
http://www.narodinfo.ru/old/program.php3?id=30857 |