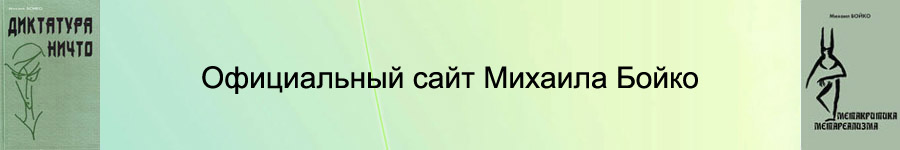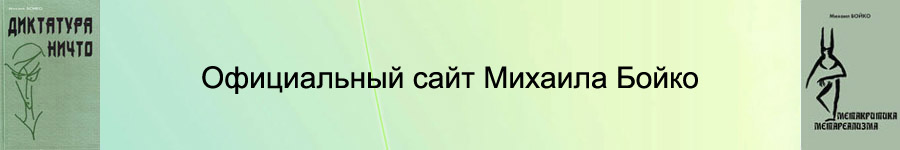|
Фото из архива Кирилла Медведева |
Кирилл Феликсович Медведев (р. 1975) – поэт, переводчик, издатель, политический активист. В 1992-95 гг. учился на истфаке МГУ. В 2000 году окончил Литературный институт имени Горького. Опубликовал ряд переводов современной англоязычной литературы (среди них две книги Чарльза Буковски: роман «Женщины» и сборник стихов «Блюющая дама», роман Джона Ридли «Все горят в аду», стихи Лоренса Даррелла, Эдриана Митчелла) и марксисткой теории (Терри Иглтон и др.) Автор поэтических сборников «Все плохо» (2002), «Вторжение» (2002), «Тексты, изданные без ведома автора» (2005), «3%» (2007). В 2002 году стихи Медведева были включены в шорт-лист Премии Андрея Белого (номинация «Поэзия»). Участник Социалистического движения «Вперед». Создатель «Свободного марксистского издательства». Сотрудничает с платформой «Что делать?», входит в консультативный совет альманаха «Транслит».
Побеседовав с Кириллом Медведевым трудно сомневаться, что излагаемые им взгляды – это настоящие его убеждения, а не более или менее продуманная «поза». На фоне «имиджевых радикалов», тонко чувствующих конъюнктуру и коммерческий потенциал левого позерства, это производит крайне благоприятное впечатление.
– Кирилл, как вы считаете: было ли в России засилье постмодернизма или это выдумка перепуганных критиков?
– Ну, перепуганные постсоветские критики просто реагировали на некие невиданные и оскорбительные для них формы. А вообще засилье постмодернизма – в обществе, в головах людей, а литература только отражает его. Постмодернизм это логика отрывков, информационных фрагментов, текстовых клочьев, которые формируют сознание человека как объекты его бесконечного, не приносящего удовлетворения потребительского псевдовыбора – вне какого-либо действия, вне истории. Постмодернизм как отражение потребительской стадии капитализма лишает человека истории, запирает его в вечном настоящем. А у истории всегда две стороны – для правых, для консерваторов существует история господ – история великих империй, побед, триумфов, история великих художников, политиков, полководцев. Для левых история – это история рабов, история тех, кто не обрел своего голоса, либо брутально высказался в форме сопротивления, бунта, часто саморазрушительного. У каждого народа, у каждого укорененного в истории сообщества, даже у каждого человека есть и та, и другая история: память о прекрасном прошлом призывает вернуться в него, память об угнетении, лишениях, унижениях призывает идти вперед, к равенству и братству, к преодолению разделений и иерархий. Грубо говоря, прошлое необходимо, чтоб отталкиваться от него. Невозможно заменить историю кока-колой, история все равно будет прорываться – либо в виде консервативной революции, реакционной, стремящейся вернуть старые иерархии, либо в виде левой, эгалитарной революции.
Именно поэтому я не считаю, что постмодерн – это единственная логика информационного общества, в котором якобы цельное прямое высказывание невозможно, поскольку невозможен цельный индивидуальный и политический субъект. Считать так – значит сводить опыт современного человека, его становление лишь к потреблению информации. Но это ложь – ведь на рабочем месте, в семье, на улице, где угодно человек переживает бесконечный опыт угнетения, унижения, репрессии и из осмысления этого опыта как единства вполне способен родиться новый, активный в том числе политический субъект. Если только человеку перестанут объяснять, что он никто, что хороший президент, добрые бизнесмены или развитие технологий решат все его проблемы.
– В беседе с Алексеем Цветковым-младшим вы сказали, что вам близок так называемый «теплый» марксизм, который «осваивает конкретно-утопический потенциал марксизма, потенциал человеческой надежды, объединяющий его в том числе с религиозными традициями». Не кажется ли вам, что левые силы в России были гораздо «теплее» до октября 1917 года? Что определило их перерождение? Что может служить гарантией от такого перерождения (реванша «холодного» марксизма) в будущем?
– Теплое течение марксизма отвергает экономический детерминизм, оно говорит, что экономика, классовой анализ сами по себе хотя и первостепенны, но работают только в сочетании с критической теорией, с гуманистическим вектором, с этическим, а бывает, что и с религиозным фоном.
Конечно, представления большевиков были во многом связаны с этим детерминизмом – многим из них казалось, что вынужденно силовое обобществление производства автоматически приведет к свободному коммунистическому сознанию, к творческой коллективной жизни. Привело же это наоборот, как мы знаем, к забитости, страху, безынициативности. Но изъяны теории или ее трактовок – это только часть картины. Настолько же важна конкретная политическая ситуация. Есть масса фактов, не вмещающихся в традиционное представление о страшных, тоталитарных по своей сути большевиках. В РСДРП были такие традиции внутренней демократии, партийной дискуссии, которые сейчас не снились никакой демократический оппозиции, не говоря о правящем блоке. В 1920-м году среди большевиков были призывы к роспуску ЧК и отмене смертной казни. То, что возобладала в итоге силовая, репрессивная линия было связано с общей отсталостью, с гражданской войной и войной с Антантой, на которой погибла большая часть сознательного рабочего класса, с саботажем старой интеллигенции. Что может служить гарантией от всего этого, когда в результате очередного экономического обвала где-то снова возникнет какая-нибудь советская республика или коммуна? Никакой гарантии ни от чего нет, все зависит только от нас. Мне лично, например, кажется важным донести до новой буржуазии, в том числе интеллигентной буржуазии, что громоздить на месте рухнувшего советского проекта свои особняки с личными рабами и уборщицами – это подлость и варварство.
– В журнале «Транслит» вы пишите: «В каком случае человек жаждет поэтического новаторства?.. Конечно, в том случае, если человека не устраивает та стратификация – социальная, этническая, идеологическая и т.п., которую он ощущает в обществе». Разве жажда поэтического новаторства не может объясняться просто скукой?
– Ну от скуки вряд ли можно что-то новое породить. Чтоб породить что-то новое, нужна страсть, или как минимум возбуждение. Мне кажется, это очевидно.
– С другой стороны, разве вы не сталкивались со случаями упорного неприятия людьми левых убеждений любых проявлений новаторской эстетики? И однако вы утверждаете, что «человек, имеющий консервативный вкус, безусловно, не желает никакого принципиального переустройства»…
– Антимодернистски настроенные люди левых убеждений – это наследники определенной, скорее советской левой традиции, которая в рафинированном виде отражена в полемике Брехта и Лукача о том, какое искусство ближе коммунистам – то, которое ищет некую особую критическую, антибуржуазную форму, либо скорее реализм, который изображает мир в его целостности и гармонии, постоянной разрушаемой капитализмом. Это продуктивный спор, но крайние позиции в нем сегодня абсолютно непродуктивны – одним кажется, что современное искусство – это по определению сплошной буржуазный декаданс, другим – что новая форма и новые медиа сами по себе несут некий подрывной политический потенциал, что тоже сомнительно. Вся экономика и идеология современного капитализма построены на мифе постоянного обновления и инновации, поэтому странно некритически следовать этому. А кто такой консерватор – это тоже большой вопрос. Для меня тот, кто считает, что угнетение и неравенство вечны и выражает это свое знание новаторским на данный момент образом, конечно, остается консерватором.
Интересный пример – андеграундное искусство советского времени, которое я люблю. Эти люди в своей реакции на советское были консервативнее, чем сама советская власть, в которой тоже, конечно, была масса всего отсталого. Когда передовые художники на Западе стремились к каким-то новым формам жизни, к новой коллективности, к политический вовлеченности, для наших идеалом была дореволюционная Россия с императором и аполитичная парижская богема начала века с культом допингов и гениальности. Но в искусстве эта дремучесть выражалась очень интересно, по-своему новаторски.
– Не кажется ли вам, что в случае победы левых сил в искусстве воцарится какой-нибудь аналог «соцреализма»?
– В результате победы левых сил в 17 году в России родилось или оформилось то искусство, та архитектура, кинематограф и литература, которые потрясли мир и оплодотворили идеями и формами западную культуру на сто лет вперед. Так что нам есть на что опираться.
Интересно все время пытаться определить, что такое левое искусство, но ни в коем случае нельзя определять это раз и навсегда, иначе какое-нибудь одно направление, превратившееся в сталинском СССР в репрессивное орудие, в нашей ситуации просто превратится в бренд. Искусство должно быть разным. И тут я совершенно не боюсь обвинений в постмодернистском мышлении. В нас всех полно и постмодернистского, и буржуазного, и первобытно-общинного и какого угодно. В искусстве мы можем не стесняясь выражать и отстранять, анализировать все это.
Другое дело, чем больше людей вовлечены в политику, в реальное коллективное переустройство общества, тем меньше у художника желание вымучивать какие-то шедевры в башне из слоновой кости, тем больше ему хочется растворить свое искусство в жизни. Но это возможно только при прогрессивной динамике общества, при тенденции к самоуправлению, к политическому действию снизу. Если этого нет, то и искусство теряется, так и не превратившись в жизнь, и жизнь не становится искусством, а продолжается по законам, заданным системой – карьера, рейтинги, конкуренция, обслуживание элиты – ведь все это возможно и под левым брендом.
– Как возник ваш интерес к Чарльзу Буковски – писателю, основные предметами исследования которого, по вашим же собственным словам: выпивка, женщины (желательно «легкого поведения», старше него и с каким-либо физическим или душевным изъяном), классическая музыка и ипподром?
– В Буковски сочетается циничная антисоциальность с гуманизмом, с глубоким интересом и особой любовью к человеку. Очень редкое и прекрасное сочетание.
– Некоторое время назад вы взяли пятилетний мораторий на публикацию своих стихов. Как вы оцениваете его итоги? Не планируете ли прервать?
– Да, планирую в какой-то момент. Может быть, раньше. Пока прошло три с половиной года. Итоги? Уже нет сверхимператива, заставляющего сводить всего себя к поэтической функции. Это важно, потому что сведение человека даже к такой захватывающей роли как роль поэта это ограничение, человек замыкается внутри определенной профессиональной мифологии и системы координат. Я рад, если мне нечаянно удалось когда-то слегка изменить чье-то отношение к поэзии. Сегодня хотелось бы изменить отношение людей к политике – этот вызов гораздо мощнее и интереснее, за ним стоят и десятилетия советской деполитизации, и двадцать лет буржуазной энтропии. Здесь есть масса сложностей и много такого, чего можно проговорить только в стихах, именно поэтому стихи никуда не денутся.
Беседовал Михаил Бойко
http://exlibris.ng.ru/2010-06-17/2_medvedev.html |